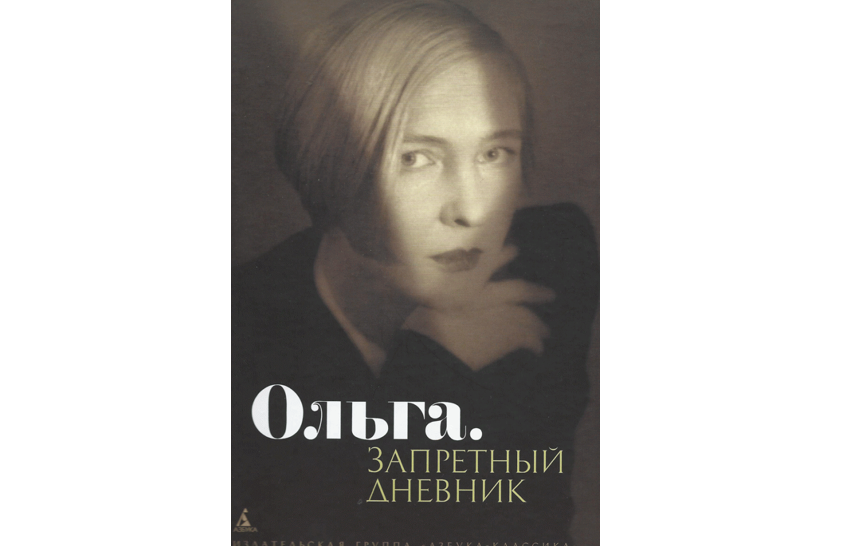Автор статьи:
Лариса Поповян
13 февраля 2024
14 февраля — день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, в последние годы молодёжь отмечает в этот день и день святого Валентина — покровителя любви. А 27 января мы отмечали 80-летие окончания блокады Ленинграда. Наш рассказ о трагической истории любви Николая Степановича Молчанова и Ольги Фёдоровны Берггольц, которую старшее поколение помнит как «музу блокадного Ленинграда».

Был женат на Ольге Фёдоровне Берггольц, которая была «голосом Города» почти все девятьсот блокадных дней. Даниил Гранин писал о ней: «В истории Ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых».
Они поженились в 1930 году, ещё студентами. В книге «Ольга. Запретный дневник» имя Николая встречается практически на каждой странице.
Вот несколько отрывков из дневниковых записей О. Берггольц:
4 апреля 1941 г.
О, как мало времени осталось на жизнь и ничтожнейше мало — на расцвет ее, которого, собственно, еще не было. А когда же дети?
…
А надо всем этим — близкая, нависающая, почти неотвратимая война. Всеобщее убийство, утрата Коли (почему-то для меня несомненно, что его убьют на войне), утрата многих близких, — и, конечно, с войной кончится своя, моя отдельная жизнь, будет пульсировать какая-то одна общая боль, и я буду слита вместе с нею, и это будет уже не жизнь. И если останусь жить после войны и утраты Коли, что маловероятно, то оторвусь (как все) от общей расплавленной массы боли и буду существовать окаменелой, безжизненной каплей, в которой не будет даже общей боли и уж совсем не будет жизни. Так или иначе — очень мало осталось жизни. Надо торопиться жить. Надо успеть хоть что-нибудь записать из того, как мы жили. Надо успеть полюбоваться собой, нарядиться, вкусить от природы, искусства и людей…
Молодая красивая любящая женщина страшится будущей войны, предчувствует беду, которая отнимет у неё любимого. В сентябре 1941 г. на Ленинград упали первые бомбы. Тогда еще никто не мог предположить ужасов блокады, пока все привыкали к жизни в городе под постоянными обстрелами и бомбёжками:
17 сентября 1941 г.
Сигнал В. Т.[воздушной тревоги]
Теперь тревог на дню раз по 8–10, и я уже не каждый раз, когда дома, сбегаю вниз — совершенно нельзя работать. А мне надо написать очерк о командирах производства для Юры — о моих слушателях.
…
Немцы третьего дня, обойдя Детское, были под Пулковом. Третьего дня ими была занята Стрельна. Это, собственно, в черте города. Партия поставила вопрос о баррикадных боях, в Доме радио создан отряд, где Яшка комиссар, для защиты их улицы.
Аж руки опускаются от немого удивления — да как же допустили до всего этого… (На большой высоте идут чьи-то самолеты.)
Кольцо вокруг Ленинграда почти неудержимо сжимается. Мы еще счастливы, что их от Пулкова-то чуть-чуть отогнали. О, бедные мы, бедные. Да еще эта ориентировка на уличные бои — да ведь это же преступление, это напрасная кровь, этим ничего уже нельзя будет изменить. Да и драться-то люди не будут, кроме отдельных безумцев, самоубийц…
Кажется, трагедия Ленинграда (залпы зениток, не сойти ли вниз — это рядом, над головой немец) приближается к финалу.
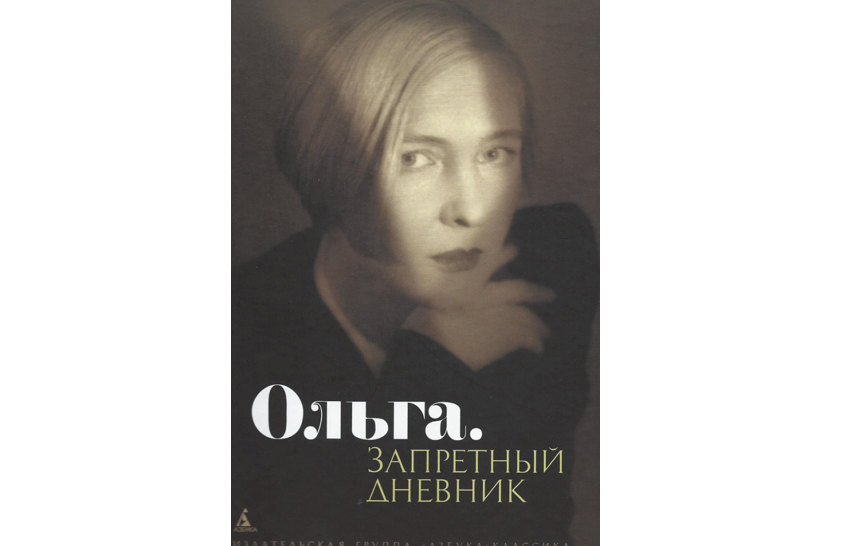
Дневники были зарыты позже, об этом и о том, какой заботой окружает жену Николай, мы узнаём из письма Ольги сестре М. Ф. Берггольц от 26 сентября 1941 года:
Коля заботится обо мне, как мамка, за керосином бегает, посуду моет, в очередях стоит. Он милейший, но припадки у него участились, и он очень пришиблен тем, что не у дел (он без работы, так, кое-что делает на радио), что его сняли с учета. Но держится, хлопочет по дому, ужасно обмирает за меня, уговаривает ехать, — но ты понимаешь, что с моей стороны это была бы подлость.
Это очень откровенные дневники о трагедии Ленинграда и ленинградцев, дневники молодой женщины, которая спешит жить и радуется жизни вопреки бомбёжкам и обстрелам, гибели знакомых и друзей, и даже семейной трагедии — высылке из Ленинграда отца. Военный хирург Фёдор Христофорович Берггольц был выслан из города как этнический немец. И только стараниями дочерей попал в Чистополь, а не в более дальний Красноярский край.
Она любит и любима, ей хочется состояться и как писателю, и как женщине. А дальше — блокада и голод. 20 ноября 1941 г., после последнего понижения продовольственных норм, по рабочим карточкам получали 250 граммов хлеба, а служащим, иждивенцам и детям до двенадцати лет полагалось 125 граммов. И, самое страшное время для семьи — Николай Молчанов с тяжёлой формой дистрофии и обострением эпилепсии попадает в госпиталь, а Ольга Берггольц переходит на казарменное положение в Радиокомитет.
14 января 1942 г.
О Коля, сердце мое, неужели ты погибаешь?
Твое сегодняшнее лицо стоит передо мной неотрывно…
Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я могу еще сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего.
…Радость моя, и жизнь, и гордость, если ты погибнешь, я хочу погибнуть вместе с тобой!
…Держись! Держись еще немного, мой единственный, моё счастье, изумительный, лучший в мире человек!
…Скорее бы утро, чтоб узнать, что ты жив, и надо делать что-то для тебя.
Я должна писать. Я должна что-то делать, чтобы выжить, чтоб не сойти с ума, не «лечь»… (по блокадной терминологии — символ крайней опасности, лечь – значит умереть).
Потом, потом, если ты погибнешь, я лягу. Да, мы должны выжить, и я буду писать — работать, потому что иначе — смерть.
Итак, в январе 1942-го в одном из ленинградских госпиталей умирал от дистрофии Николай Молчанов, журналист, литературовед, кандидат филологических наук. Несмотря на свою инвалидность, он отправился на строительство укреплений на Лужском рубеже. В его боевой характеристике написано: «Способен к самопожертвованию». Из лекарств в госпитале была одна валерьянка, два раза в день больным и раненым давали баланду. Каждый день к умирающему Николаю Молчанову приходила жена, Ольга Берггольц. Через весь город, пешком...
30 января, войдя в палату, Ольга Фёдоровна увидела, что кровать мужа пуста. Ей сказали, что Николай Степанович умер ещё вчера, сразу после её ухода.
— Если хотите похоронить отдельно, поможем найти, он в самом низу, там за сутки трупов наложили до самого верха, — предложил доктор.
— Он умер, как солдат, пусть и будет похоронен, как солдат, в братской могиле, — отказалась Ольга Фёдоровна.
Раненые из соседней палаты попросили на прощанье зайти к ним, почитать стихи. Ольга Берггольц зашла, стала читать стихи. Её слушали молча, некоторые плакали, не хлопал никто. По рядам пустили пустой котелок, и каждый налил туда ложку супа. Последний протянул котелок Ольге Фёдоровне: «Поешьте, товарищ поэтесса!»
Он умер, а она работала для блокадного города, это были годы её творческого расцвета, голос её был родным для всех блокадников.
1 марта 1942 года Ольгу Берггольц перевезли в Москву, несмотря на тяжёлую форму дистрофии, она ходила по инстанциям и пыталась решать проблему продовольственного обеспечения блокадного Ленинграда. И вот она в Москве, в относительно спокойной обстановке, пишет:
1 марта 1942 г. Москва
О, поскорее обратно в Ленинград.
Моего Коли все равно нигде нет.
Его нет. Он умер. Его никак, никак не вернуть. И жизни все равно нет.
Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме, — неудержимо, с тупым, посторонним удивлением. До меня это делал Тихонов. Я была у него сегодня, он все же чудесный.
Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио — «Февральский дневник», ни издать книжки стихов так, как я хочу… Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях «героев» фильма «Светлый путь»…
…
О, Коля… О, как же это случилось… Какая жизнь у тебя была трудная и горькая, как мало счастья ты видел, и умер, не дождавшись его… Нет, мне надо было быть с ним в последние его минуты. Может быть, он узнал бы меня и я успела бы сказать ему, объяснить ему, как я люблю его. Может быть, он умер бы счастливым…
И ещё фрагмент из московских записей, так сказать, оценивая написанное ранее, ведь прошло 9 месяцев после начала войны:
9 марта 1942 г. Москва
Между одним словом, которое я написала в этой тетрадке 22 июня 1941 года, и сегодняшним днем прошло почти 9 месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много листков, блокнотов, тетрадок — записей, сделанных за дни войны. Я долго не решалась продолжать эти записи в этой тетради. Как все, что было до войны, — эта тетрадь со всеми ее записями мучительно ранит меня.
…
Я с удивлением почти мистическим читаю свою запись от 4/VI-41. Да, вот так и вышло: война сжевала Колю, моего Колю, — душу, счастье и жизнь. Я страдаю отчаянно.
Сохранилось письмо поэтессы от 20 марта 1942 г., отправленное на новосибирский адрес, в котором она рассказывает подруге и соседке по ленинградской квартире М. С. Довлатовой о смерти своего мужа:

И в дневнике день за днём мука женщины, потерявшей свою половину, женщины востребованной, не праздной, занятой массой дел, которые не могут заполнить ту пустоту, которая осталась после смерти Николая:
23 марта 1942 г.
Сейчас ездила на аэродром сдавать груз для Радиокомитета. Чудесное розово-голубое утро, пахнет весной. А Коли нет. Мне до галлюцинаций ясно представляется, ощущается:
Троицкая улица, наша квартира — утром, вот таким же, когда солнце и разлитые в воздухе голубые и розовые краски. Но ведь там же НЕТ, НЕТ Коли. Я вернусь туда, — а он не придет. Там будет все так же, но его не будет. Нет, на свете не существует ничего, кроме его смерти.
Господи, что делать. Я не могу жить. Мука становится все огненнее. Меня корчит в ней, дышать нечем — физически… Боже мой, что же делать, — не могу, не могу так жить, никакого смысла нет.
Ирина рассказывала о Ленинграде, там все то же: трупы на улицах, голод, дикий артобстрел, немцы на горле. Теперь запрещено слово «дистрофия», — смерть происходит от других причин, но не от голода! О, подлецы, подлецы! Из города вывозят в принудительном порядке людей, люди в дороге мрут. Умер в пути Миша Гутнер; я услышала и тотчас подумала: «Скажу Кольке». Я все время, все время так думаю. Но его нет. Я все еще не отправила письмо Молчановым — страшно.
И так — день за днём, месяц за месяцем:
16 апреля 1942 г.
Вечер, или, вернее, ночь на 17/IV.
Коля все равно уже не прочтет этой тетради, как бы я ее ни прятала. Я могу положить ее на самое видное место, и он все равно не прочтет ее. Я могу писать что хочу. Я могу жить как хочу. Его нет.
Коля. Коленька. Мой милый. Крест мой, мученье мое. Жизнь моя — вернись! Ведь ты же любил меня. Как же ты не веришь, что я так мучаюсь среди чужих людей. Ты ведь знал, что я останусь одна без тебя.
В последней опубликованной записи этого блокадного дневника от 20 августа 1942 г. есть несколько слов и о нашей беде:
На Юге дела плохи — все погубил Ростов, сданный без боя, с перепугу… Оставлен Армавир, Майкоп, Краснодар… Дерутся в Пятигорске. Черчилль был у Сталина, — неужели все же они, эти мудаки, откроют второй фронт? И вдруг — скоро конец? Трудно как-то этому поверить…
Одна из последних записей второй части «Дневных звезд»:
И все-таки самое главное — Коля, история нашей истинной любви и веры.
Итак, он — Николай Степанович Молчанов, наш земляк, уроженец города Новочеркасска (13.05.1909), донской казак, литературовед, журналист, чья жизнь была оборвана на полпути (умер от голода в блокадном Ленинграде в конце января 1942 г.).

В 1927 г. окончил школу-девятилетку в Таганроге, в 1930 г. — факультет языкознания и материальной культуры Ленинградского государственного университета. В сентябре 1934 г. поступил в аспирантуру литературного отделения Государственной Академии искусствознания, в марте 1938 г. защитил диссертацию. С 1938 по 1940 гг. работал в Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Они поженились в 1930 году, ещё студентами. В книге «Ольга. Запретный дневник» имя Николая встречается практически на каждой странице.
Вот несколько отрывков из дневниковых записей О. Берггольц:
4 апреля 1941 г.
О, как мало времени осталось на жизнь и ничтожнейше мало — на расцвет ее, которого, собственно, еще не было. А когда же дети?
…
А надо всем этим — близкая, нависающая, почти неотвратимая война. Всеобщее убийство, утрата Коли (почему-то для меня несомненно, что его убьют на войне), утрата многих близких, — и, конечно, с войной кончится своя, моя отдельная жизнь, будет пульсировать какая-то одна общая боль, и я буду слита вместе с нею, и это будет уже не жизнь. И если останусь жить после войны и утраты Коли, что маловероятно, то оторвусь (как все) от общей расплавленной массы боли и буду существовать окаменелой, безжизненной каплей, в которой не будет даже общей боли и уж совсем не будет жизни. Так или иначе — очень мало осталось жизни. Надо торопиться жить. Надо успеть хоть что-нибудь записать из того, как мы жили. Надо успеть полюбоваться собой, нарядиться, вкусить от природы, искусства и людей…
Молодая красивая любящая женщина страшится будущей войны, предчувствует беду, которая отнимет у неё любимого. В сентябре 1941 г. на Ленинград упали первые бомбы. Тогда еще никто не мог предположить ужасов блокады, пока все привыкали к жизни в городе под постоянными обстрелами и бомбёжками:
17 сентября 1941 г.
Сигнал В. Т.[воздушной тревоги]
Теперь тревог на дню раз по 8–10, и я уже не каждый раз, когда дома, сбегаю вниз — совершенно нельзя работать. А мне надо написать очерк о командирах производства для Юры — о моих слушателях.
…
Немцы третьего дня, обойдя Детское, были под Пулковом. Третьего дня ими была занята Стрельна. Это, собственно, в черте города. Партия поставила вопрос о баррикадных боях, в Доме радио создан отряд, где Яшка комиссар, для защиты их улицы.
Аж руки опускаются от немого удивления — да как же допустили до всего этого… (На большой высоте идут чьи-то самолеты.)
Кольцо вокруг Ленинграда почти неудержимо сжимается. Мы еще счастливы, что их от Пулкова-то чуть-чуть отогнали. О, бедные мы, бедные. Да еще эта ориентировка на уличные бои — да ведь это же преступление, это напрасная кровь, этим ничего уже нельзя будет изменить. Да и драться-то люди не будут, кроме отдельных безумцев, самоубийц…
Кажется, трагедия Ленинграда (залпы зениток, не сойти ли вниз — это рядом, над головой немец) приближается к финалу.
Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления — казалось, что она осуществима.
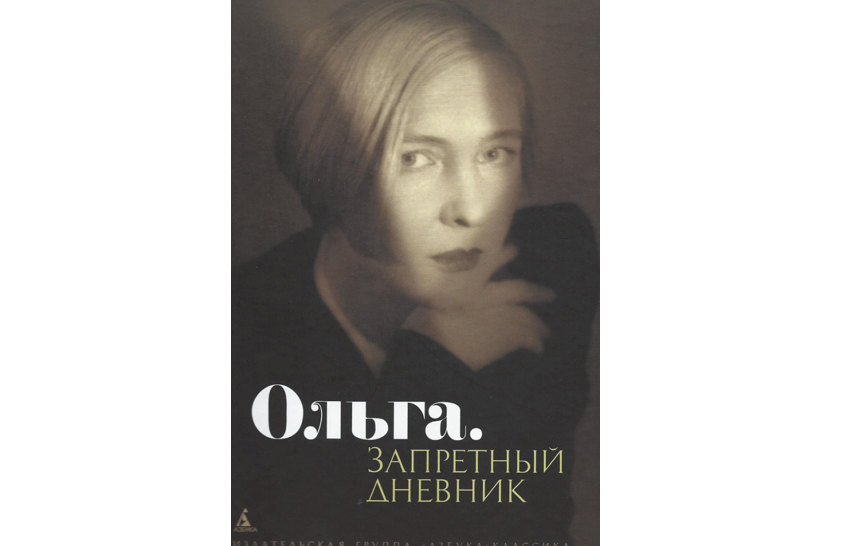
Дневники были зарыты позже, об этом и о том, какой заботой окружает жену Николай, мы узнаём из письма Ольги сестре М. Ф. Берггольц от 26 сентября 1941 года:
Коля заботится обо мне, как мамка, за керосином бегает, посуду моет, в очередях стоит. Он милейший, но припадки у него участились, и он очень пришиблен тем, что не у дел (он без работы, так, кое-что делает на радио), что его сняли с учета. Но держится, хлопочет по дому, ужасно обмирает за меня, уговаривает ехать, — но ты понимаешь, что с моей стороны это была бы подлость.
Мусинька, — на всякий случай, — только на всякий случай, знай: мои дневники и некот. рукописи в железном ящике зарыты у Молчановых, Нев., 86, в их дровяном сарайчике. М. б., когда-нибудь пригодятся.
Она любит и любима, ей хочется состояться и как писателю, и как женщине. А дальше — блокада и голод. 20 ноября 1941 г., после последнего понижения продовольственных норм, по рабочим карточкам получали 250 граммов хлеба, а служащим, иждивенцам и детям до двенадцати лет полагалось 125 граммов. И, самое страшное время для семьи — Николай Молчанов с тяжёлой формой дистрофии и обострением эпилепсии попадает в госпиталь, а Ольга Берггольц переходит на казарменное положение в Радиокомитет.
14 января 1942 г.
О Коля, сердце мое, неужели ты погибаешь?
Твое сегодняшнее лицо стоит передо мной неотрывно…
Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я могу еще сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего.
…Радость моя, и жизнь, и гордость, если ты погибнешь, я хочу погибнуть вместе с тобой!
…Держись! Держись еще немного, мой единственный, моё счастье, изумительный, лучший в мире человек!
…Скорее бы утро, чтоб узнать, что ты жив, и надо делать что-то для тебя.
Я должна писать. Я должна что-то делать, чтобы выжить, чтоб не сойти с ума, не «лечь»… (по блокадной терминологии — символ крайней опасности, лечь – значит умереть).
Потом, потом, если ты погибнешь, я лягу. Да, мы должны выжить, и я буду писать — работать, потому что иначе — смерть.
Итак, в январе 1942-го в одном из ленинградских госпиталей умирал от дистрофии Николай Молчанов, журналист, литературовед, кандидат филологических наук. Несмотря на свою инвалидность, он отправился на строительство укреплений на Лужском рубеже. В его боевой характеристике написано: «Способен к самопожертвованию». Из лекарств в госпитале была одна валерьянка, два раза в день больным и раненым давали баланду. Каждый день к умирающему Николаю Молчанову приходила жена, Ольга Берггольц. Через весь город, пешком...
30 января, войдя в палату, Ольга Фёдоровна увидела, что кровать мужа пуста. Ей сказали, что Николай Степанович умер ещё вчера, сразу после её ухода.
— Если хотите похоронить отдельно, поможем найти, он в самом низу, там за сутки трупов наложили до самого верха, — предложил доктор.
— Он умер, как солдат, пусть и будет похоронен, как солдат, в братской могиле, — отказалась Ольга Фёдоровна.
Раненые из соседней палаты попросили на прощанье зайти к ним, почитать стихи. Ольга Берггольц зашла, стала читать стихи. Её слушали молча, некоторые плакали, не хлопал никто. По рядам пустили пустой котелок, и каждый налил туда ложку супа. Последний протянул котелок Ольге Фёдоровне: «Поешьте, товарищ поэтесса!»
Он умер, а она работала для блокадного города, это были годы её творческого расцвета, голос её был родным для всех блокадников.
1 марта 1942 года Ольгу Берггольц перевезли в Москву, несмотря на тяжёлую форму дистрофии, она ходила по инстанциям и пыталась решать проблему продовольственного обеспечения блокадного Ленинграда. И вот она в Москве, в относительно спокойной обстановке, пишет:
1 марта 1942 г. Москва
О, поскорее обратно в Ленинград.
Моего Коли все равно нигде нет.
Его нет. Он умер. Его никак, никак не вернуть. И жизни все равно нет.
Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме, — неудержимо, с тупым, посторонним удивлением. До меня это делал Тихонов. Я была у него сегодня, он все же чудесный.
Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио — «Февральский дневник», ни издать книжки стихов так, как я хочу… Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях «героев» фильма «Светлый путь»…
…
О, Коля… О, как же это случилось… Какая жизнь у тебя была трудная и горькая, как мало счастья ты видел, и умер, не дождавшись его… Нет, мне надо было быть с ним в последние его минуты. Может быть, он узнал бы меня и я успела бы сказать ему, объяснить ему, как я люблю его. Может быть, он умер бы счастливым…
И ещё фрагмент из московских записей, так сказать, оценивая написанное ранее, ведь прошло 9 месяцев после начала войны:
9 марта 1942 г. Москва
Между одним словом, которое я написала в этой тетрадке 22 июня 1941 года, и сегодняшним днем прошло почти 9 месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много листков, блокнотов, тетрадок — записей, сделанных за дни войны. Я долго не решалась продолжать эти записи в этой тетради. Как все, что было до войны, — эта тетрадь со всеми ее записями мучительно ранит меня.
…
Я с удивлением почти мистическим читаю свою запись от 4/VI-41. Да, вот так и вышло: война сжевала Колю, моего Колю, — душу, счастье и жизнь. Я страдаю отчаянно.
Сохранилось письмо поэтессы от 20 марта 1942 г., отправленное на новосибирский адрес, в котором она рассказывает подруге и соседке по ленинградской квартире М. С. Довлатовой о смерти своего мужа:
Я сделала все, что можно было сделать в январе месяце в Ленинграде, но спасти его не смогла. Мой Николай умер, Маргарита, он умирал страшно, его нет у меня больше. Я до сих пор не в состоянии поверить этому <…> Мне очень хотелось бы видеть тебя, плакать с тобой, рассказать тебе все-все, о чем не напишешь обыкновенными словами. Я ведь знаю, как ты любила Кольку… А он-то как тебя любил! <…> Машенька, Машенька, я готова крикнуть тебе — «помолись за меня», но разве во мне дело? Он жить хотел…

И в дневнике день за днём мука женщины, потерявшей свою половину, женщины востребованной, не праздной, занятой массой дел, которые не могут заполнить ту пустоту, которая осталась после смерти Николая:
23 марта 1942 г.
Сейчас ездила на аэродром сдавать груз для Радиокомитета. Чудесное розово-голубое утро, пахнет весной. А Коли нет. Мне до галлюцинаций ясно представляется, ощущается:
Троицкая улица, наша квартира — утром, вот таким же, когда солнце и разлитые в воздухе голубые и розовые краски. Но ведь там же НЕТ, НЕТ Коли. Я вернусь туда, — а он не придет. Там будет все так же, но его не будет. Нет, на свете не существует ничего, кроме его смерти.
Господи, что делать. Я не могу жить. Мука становится все огненнее. Меня корчит в ней, дышать нечем — физически… Боже мой, что же делать, — не могу, не могу так жить, никакого смысла нет.
Ирина рассказывала о Ленинграде, там все то же: трупы на улицах, голод, дикий артобстрел, немцы на горле. Теперь запрещено слово «дистрофия», — смерть происходит от других причин, но не от голода! О, подлецы, подлецы! Из города вывозят в принудительном порядке людей, люди в дороге мрут. Умер в пути Миша Гутнер; я услышала и тотчас подумала: «Скажу Кольке». Я все время, все время так думаю. Но его нет. Я все еще не отправила письмо Молчановым — страшно.
И так — день за днём, месяц за месяцем:
16 апреля 1942 г.
Вечер, или, вернее, ночь на 17/IV.
Коля все равно уже не прочтет этой тетради, как бы я ее ни прятала. Я могу положить ее на самое видное место, и он все равно не прочтет ее. Я могу писать что хочу. Я могу жить как хочу. Его нет.
Коля. Коленька. Мой милый. Крест мой, мученье мое. Жизнь моя — вернись! Ведь ты же любил меня. Как же ты не веришь, что я так мучаюсь среди чужих людей. Ты ведь знал, что я останусь одна без тебя.
В последней опубликованной записи этого блокадного дневника от 20 августа 1942 г. есть несколько слов и о нашей беде:
На Юге дела плохи — все погубил Ростов, сданный без боя, с перепугу… Оставлен Армавир, Майкоп, Краснодар… Дерутся в Пятигорске. Черчилль был у Сталина, — неужели все же они, эти мудаки, откроют второй фронт? И вдруг — скоро конец? Трудно как-то этому поверить…
Одна из последних записей второй части «Дневных звезд»:
И все-таки самое главное — Коля, история нашей истинной любви и веры.
Фото
Поделиться:
Комментарии
Для добавления комментария необходимо авторизоваться
Смотрите также
Популярное за месяц